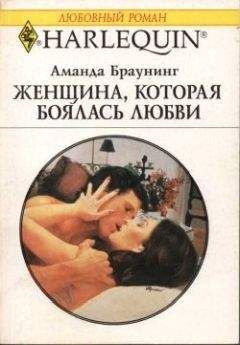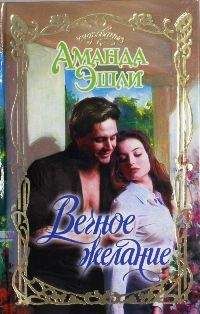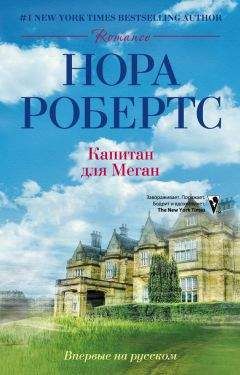Михаил Яснов - Путешествие в чудетство
Однажды мы выступали вместе с ним в Доме детской книги. Олег умел подначивать. Вскоре аудитория заговорила с ним на одном языке — и когда дело дошло до традиционных вопросов, кто-то из ребят, подхватив его игровую иронию, спросил у Олега: «Сколько росту вы весите?» На что последовал незамедлительный ответ: «Метр семьдесят килограмм!» Впоследствии я вспомнил эту встречу в стихотворении, посвящённом памяти Олега:
— Сколько росту вы весите?
— Метр семьдесят килограмм.
— А куда вы всё время лезете?
— Лезу за пазуху вам.
— А что вы там ищете?
— Камень.
— Он не под мышкой, а в почке.
И что вы там рвёте руками?
— Я собираю цветочки.
— Нельзя разрушать искусство,
душе пустотой грозя!
— Тогда покажите пусто
и дайте мне, что нельзя!
В одном из давнишних интервью, посвящённом Григорьеву, поэт Виктор Кривулин рассказал о жизни их, десятилетних, в пионерском лагере и обратил внимание на всем нам хорошо известное явление, которое назвал «детской лагерной психологией». Здесь важны оба эпитета — «детский» и «лагерный»: их сочетание подчёркивает судьбу и стихи Олега Григорьева. Он стал выразителем понятия, до сих пор определяющего идеологию нашей общественной и нравственной жизни: человек зоны.
Григорьев должен был стать художником, но, по его собственным словам, «не отстоял себя как живописца»[65]. В начале 60-х юношу изгнали из СХШ при академии художеств. Изгнали за то, что по-прежнему рисовал не то и не так. За то, что был насмешлив и скандален. За поэму «Евгений Онегин на целине», которую подал вместо сочинения и в которой отвёл душу, издеваясь над целинным «запоем» тех лет. За такие, например, стихи, — рассказывают, что их нашёл однажды в своём кабинете записанными на доске учитель физики:
Когда бы с яблони утюг
Упал на голову Ньютона,
То мир лишился бы тогда
Всемирного закона.
У Григорьева был особый взгляд, улавливающий смешную и трагичную алогичность жизни. В эти годы, не став живописцем, но сохранив дружбу и духовную связь со многими известными ныне художниками — Г. Устюговым, М. Шемякиным, А. Арефьевым, В. Шагиным, Е. Аносовым, — он стал поэтом.
Писатель Виктор Голявкин вспоминает:
«Мы знали друг друга с давних ученических лет, и многие встречи с ним остались в памяти, как подчёркнутые строчки.
После работы в мастерской я приходил в общежитие, ложился на кровать и писал короткие рассказы.
Олег Григорьев часто приходил послушать мои рассказы (тогда все друг к другу ходили). Он удивлялся, восторгался и сам писал стихи…
Настроение его стиха, как правило, неординарно. А я считаю, писатель или поэт с того и начинается, что мыслит не в общепринятом русле. По крайней мере, для нашего времени так было лучше (может быть, это мнение не навсегда).
Олег Григорьев задал новое направление художественной мысли».
Виктор Голявкин оказался среди тех немногих писателей (можно с уверенностью назвать ещё Сергея Вольфа и Глеба Горбовского), кто так или иначе оказал влияние на молодого Григорьева. Своё «направление художественной мысли» он выпестовал сам в той уникальной атмосфере внутреннего протеста, которым были заражены и заряжены в те годы молодые умы. Протест приводил к разным последствиям, нередко — с официальной точки зрения — антисоциальным.
Так начиналась маргинальность — пьянство, отсидка в «Крестах», ссылка, вытеснение из литературной взрослой жизни в детскую, из детской — в непечатание, бытовая несовместимость с миром, пьянство, психушка, снова «Кресты», бездомность, пьянство, ранняя и нелепая смерть… А с другой стороны — дружество 60-х годов, широкий и открытый многим круг, художники и поэты, элитарная слава «особого» стихотворца и популярность детского поэта, дно жизни, ставшее источником высокой поэзии…
60-е — 80-е годы, на которые пришлась творческая жизнь Григорьева, выпестовали в нашем обществе резкий, отчётливый тип внутреннего эмигранта, в душе своей чуждого всего официального, презирающего строй и власть, но не идущего на прямую конфронтацию с ними, а предпочитающего занять свою, по возможности, отдалённую и отделённую от них нишу. Культура улиц и кухонь, культура тайного протеста, ёрничанья, насмешки, анекдота стала фактически культурой народа, его живым фольклором. Сам маргинальный образ жизни оказался наделён глубоким и серьёзным смыслом — достаточным, чтобы возникла новая литература.
Судьба Григорьева типична для российского поэтического быта. Бедолага, пьяница, головная боль милиции и восторг кликушествующих алкашей, почти бездомный, разбрасывающий стихи по своим временным пристанищам, — он был человеком светлого ума, образованным, поразительно органичным. В трезвые минуты — обаятельный, умный, ироничный собеседник; в пьяные — чудовище, сжигающее свою жизнь и доводящее до исступления окружающих. Эта горючая смесь высот бытия и дна быта пропитала его стихи, сделала их ни на что не похожими, превратила грязные, стыдные, но такие реальные окраины жизни в факт подлинной поэзии. Удивительно, но это относится не только к взрослым его стихам, но и к произведениям для детей.
Судьба Григорьева окружена легендами, россказнями самого разудалого толка. И сам поэт, и его вечное многолюдное окружение с застольной лёгкостью плодили мифологию.
Говорят, в первый раз Олег угодил в «Кресты» после драки с неким знатоком русского языка, который полез в бутылку, услышав, что встречный обратился к его знакомой, назвав её то ли «голубушкой», то ли «сестрёнкой». Говорят, что когда литературное начальство подняло скандал по поводу его детской книги «Витамин роста», один из главных московских писателей сказал: «Мы ещё разберёмся с детскими книгами, которые выпущены по заказу зарубежных спецслужб». Говорят, что и вторично в «Кресты» он угодил потому, что был бельмом на глазу у докучливого участкового и в одну из очередных проверок сломал козырёк его фуражки. И в первый, и во второй раз причиной задержания стало пресловутое «сопротивление властям при аресте за хулиганство…»
Человек уличной культуры любит и лелеет уличный миф. Так легендаризировались знаменитые в недавнем прошлом места ленинградских поэтических сходок. Поди теперь, разбирайся, сколько там было нечистоплотности и отроческих предательств! Однако редкие таланты, прошедшие сквозь эту среду и выдюжившие её, донесли до сегодняшнего дня романтическую сказку, в которую легко и жадно верится. Смутный быт Григорьева тоже со временем выветрится из памяти его друзей и современников, а хмельная невыносимость естественно заместится органичностью и оригинальностью его поэтической натуры.